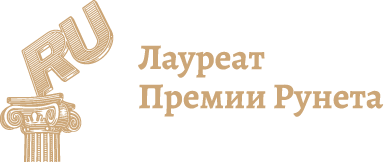Книги о блокаде, которые потрясли мир

Красноармеец осматривает тела погибших от бомбежки.
Петербург только что, 18 января, отметил семидесятилетие прорыва блокады Ленинграда. А 27 января исполнится 69 лет со дня полного освобождения города от вражеского окружения. Времени прошло много. Из тех, кто вынес все ужасы голода, бомбежек, обстрелов, в живых остались единицы. Тем ценнее становятся книги, хранящие память о блокаде, о том, что пришлось пережить ленинградцам. Читать их иногда страшно: сегодня невозможно представить те нечеловеческие условия, в которых оказались миллионы людей. Однако они не просто выстояли, но и остались людьми.
Алесь Адамович, Даниил Гранин
«Блокадная книга»
Одно из самых впечатляющих документальных произведений. В начале семидесятых годов авторы взяли интервью у нескольких тысяч ленинградцев. Их рассказы - жесткие и откровенные, без прикрас - и вошли в книгу.
«Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами «ленинградская блокада». Даже мы, прошедшие войну, - один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, - казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят…
Понять и унести безжалостную быль «ленинградской памяти» легче, если видишь этих людей - самих рассказчиков, а не только слышишь их голоса (с магнитофона) или читаешь их воспоминания.
Многое в этих людях удивительно и неожиданно. Но потом все оказывается таким простым, понятным, таким человеческим… и еще более поразительным».
<***>
«- Потом еще такая деталь запомнилась: когда разбомбили Бадаевские склады, мы бегали туда или, вернее, добредали. И вот земля. У меня остался вкус земли, то есть до сих пор впечатление, что я ела жирный творог. Это черная земля. То ли в самом деле она была промаслена?
- Сладость чувствовалась?
- Даже не сладость, а что-то такое жирное, может быть, там масло и было. Впечатление, что земля эта была очень вкусной, такой жирной по-настоящему!
- Как готовили эту землю?
- Никак не готовили. Просто по маленькому кусочку заглатывали и кипятком запивали».
<***>
«Массовый голод - это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шел - остановился, присел… Многие наблюдали, запомнили жуткую «тихость» голодных смертей.
- Я шла с работы, и вот (угол проспектов Газа и Огородникова) женщина одна идет и говорит мне: «Девушка! Ради бога, помогите мне!» Я мимо шла, говорю: «Чем я могу вам помочь?» - «Ну, доведите меня до этого забора». Я довела ее до этого забора. Она постояла, потом опустилась и села. Я говорю: «Чем вам помочь?» Смотрю, она уже и глаза закрыла. Умерла!»
<***>
«- Я перенесла всю блокаду. Хуже всего - это голод, - утверждает Лидия Сергеевна Усова, которая была тогда рабочей. - Это страшнее всего. Наш завод каждый день обстреливался. Но мы не шли в бомбоубежище: совершенно перестали этого бояться. Первое, что мы делали, это хватали кусок хлеба и запихивали в рот. Не дай бог, если тебя убьют, а он останется! Понимаете? Вот какая психика была. А потом ты в ужасе: ты все съела, а бомбежка кончилась! Это был сорок второй год. Это был самый ужасный год!.. Помню, когда умирала мама, я ей давала сахар по кусочкам, и она все говорила: добренькая, добренькая! А с сестрой поделиться я уже не могла. Она была в больнице, я несла ей что-то, но по дороге начинался обстрел, и я все съедала, я не могла ей донести. Тут я уже была в таком состоянии, я уже ни о чем не могла думать, как только о еде. Понимаете? Это совершенно ужасно».

<***>
«Надо понять слово «работала» в его тогдашнем значении. Каждое движение происходило замедленно. Медленно поднимались руки, медленно шевелились пальцы. Никто не бегал, ходили медленно, с трудом поднимали ногу. Сегодня здоровому, сытому молодому организму невозможно представить такое бессилие, такую походку.
«Примерно такое ощущение, что ногу не поднять. Понимаете ли? Вот такое ощущение, когда на какую-то ступеньку ногу надо поставить, а она ватная. Вот так во сне бывает: ты вроде готов побежать, а у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать - нет голоса.
Я помню чувство, когда нужно было переставлять ноги (это в то время, когда мама еще была жива, когда надо было выходить), когда надо было на ступеньку поставить, в какое-то мгновение нога у тебя не срабатывает, она тебе не подчиняется, ты можешь упасть. Но потом все-таки хватило сил, как-то поднималась».
Чтобы хоть как-то оценить труд ленинградцев, находившихся в подобном состоянии, чтобы постигнуть, что значило отремонтировать орудие, подняться на чердак для дежурства, что значило расчистить завал, для этого надо прежде всего понять протяженность и силу блокадного голода, протяженность его не только вширь, но и как бы вглубь человека. Надо понять, как сказывался голод на поведении человека, каким испытаниям подвергались и психика, и душа, и вера, причем не вообще человека, а конкретного, этого, потому что у каждого было свое, своя схватка с голодом, и протекала она по-разному. Только постигнув голод, представив его силу, изучив его масштабы, его действие, можно почувствовать сделанное ленинградцами. Без этого не понять истинной величины мужества защитников города».
<***>
«- Я иду пешком до вокзала Новой Деревни. Езжу в поликлинику через день… И никогда не приходит мысль - а может быть, я не дойду? Это не храбрость, а привычка. Лев Толстой не прав, когда говорит: «Прежде Ростов, идя в дело, боялся, теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью…» Мы именно привыкли. Мы ложимся спать под звуки сирены, под вой зениток, под звуки обстрелов, и мы засыпаем без усилий, от физической усталости, от привычки засыпать в эти часы, и будит нас только сила звука. Разумом мы знаем, что опасность нам угрожает, но чувство молчит».
В любом другом случае мы взялись бы отстаивать абсолютный авторитет Толстого. А здесь промолчим. Бывший блокадник знает о себе порой такое, что человеку лучше бы не знать. О себе и о человеке то, что мучит, как осколки в теле. Это «осколки» - в памяти».
Александр Чаковский
«Блокада»
Книга вышла в 1978 году. Классик советской литературы описал, как ленинградцы защищали свой город. Чаковскому не довелось самому пережить ужасы блокады, но он видел их своими глазами, когда приезжал сюда в командировки как корреспондент военной газеты Волховского фронта. К тому же он родом из Ленинграда. То, что особенно запомнилось Чаковскому, позже вошло в его книгу.
«За спиной этих трех десятков людей задыхался в петле голода терзаемый вражеской артиллерией Ленинград. Но им-то в первый момент показалось, что и война и блокада отодвинулись куда-то вдаль. Здесь, на белом, пустынном ладожском льду, трудно было представить, что где-то совсем рядом бушуют огонь и смерть.
Экспедиции предстоял путь в неизвестность. О коварстве Ладоги рассказывали столько былей и ходило столько легенд! Соколов и его товарищи были наслышаны об осенних ладожских штормах, не уступающих морским, и о том, что зимой здесь будто бы беспрерывно происходит подвижка ледовых масс, в считанные минуты образуются необъятные полыньи там, где лед только что казался несокрушимо крепким, возникают непреодолимые торосы, напоминающие Арктику...
Теперь трем десяткам людей предстояло разрушить или подтвердить все это. Но и в том и в другом случае надо было найти путь, по которому в умирающий от истощения Ленинград потекли бы беспрепятственно могучие токи жизни.
На подготовку экспедиции ушел весь предшествующий день. В то время как Смольный был поглощен заботами о перегруппировке войск, о создании новых узлов обороны, о новых стационарах для дистрофиков, о домах для осиротевших детей, в то время как десятки тысяч ленинградцев трудились у своих станков, напрягая последние силы, чтобы не упасть от истощения, - в это самое время на Ладожском побережье, в лесу близ деревни Коккорево, безвестный мостостроительный батальон мастерил санки и деревянные щиты, которые могли бы стать мостками через полыньи, заготавливал вешки для обозначения будущей ледовой трассы, отбирал для участников экспедиции лыжи получше, ломы и пешни ненадежнее.
Но самым трудным оказался отбор людей для экспедиции. За пять месяцев войны наши бойцы и командиры научились многому: стоять насмерть под натиском вражеских войск, прорываться из окружения, выходить на поединок с немецкими танками, имея при себе лишь бутылки с зажигательной смесью, наводить под ураганным огнем мосты через реки, бомбить Берлин, преодолевая по воздуху огромные расстояния, отделяющие столицу фашистской Германии от островов в Финском заливе, привыкли не спать по нескольку ночей кряду или спать урывками в сырых окопах и траншеях, освоили новые образцы боевой техники. Но никому из них, столь многое познавших, не приходилось еще прокладывать автомобильную дорогу по льду, толщину которого не знал никто, по льду, скрывающему бездонную пучину, по льду, который в любую минуту мог быть искрошен фугасными авиабомбами и артиллерийскими снарядами... К тому же мостостроительный батальон был сформирован преимущественно из тех, кто не годился для службы на передовой. Как бы то ни было, экспедицию укомплектовали, снарядили и вооружили чем могли, прибавив к личному оружию каждого - винтовкам и наганам - несколько ручных гранат...

Первой же весной горожане разбили в самом центре огороды.
Поздно вечером комиссар Брук собрал на заснеженной лесной поляне коммунистов и комсомольцев, составивших ядро экспедиции. Перед тем как начать разговор с ними, он внимательно оглядел каждого. Бросилось в глаза, что обмундированы они плохо. На ногах вместо валенок кирзовые сапоги или ботинки с обмотками. Не у всех есть шапки-ушанки, многие в матерчатых остроконечных «буденовках», залежавшихся на интендантских складах. Только часть бойцов удалось одеть в полушубки, остальные пришли в ватниках и шинелях, натянув поверх них маскировочные халаты. Ничего не поделаешь: полушубки, валенки, меховые жилеты и шапки отправлялись в первую очередь на передний край. Даже маскхалаты для экспедиции удалось добыть только с помощью Якубовского. Он же выхлопотал для ее участников и дополнительные продпайки: сверх плановой трехдневной нормы каждый получил по три сухаря, по одной селедке и по кусочку твердой как камень, насквозь промерзшей колбасы.
Речь комиссара была короткой. А могла бы быть и еще короче - содержание ее вполне исчерпывалось двумя фразами: «Дойти до Кобоны. Во что бы то ни стало дойти!»
Прямо с этого собрания командир экспедиции Соколов направился на КП батальона, чтобы доложить бывшему начальнику областной конторы Союздорпроекта, а ныне комбату Брикову о готовности к выступлению.
...И вот рано утром экспедиция вышла на лед.
О ней не сообщалось в очередной сводке Совинформбюро. О ней ни слова не было сказано в «Ленинградской правде» и даже во фронтовой газете «На страже Родины». Кроме однополчан, о ней знали лишь несколько человек: здесь, в землянках коккоревского леса, где располагался штаб Якубовского, и там, в Смольном».
<***>
«Валицкий медленно приблизился к двери, не зная, что делать. Заходить в комнату, где кто-то плачет, казалось ему бестактным. Но провожатая была уже там, и, помедлив минуту, он тоже осторожно шагнул через порог. То, что он увидел, потрясло его. В маленькой комнате у письменного стола, низко опустив голову, рыдал человек в ватнике. Склонившись над ним и положив руки на его вздрагивающие плечи, стоял Бабушкин, а рядом - та женщина, с которой Федор Васильевич только что поднимался по лестнице. Она беспрестанно повторяла один и тот же вопрос:
- Лазарь, что с тобой?
Бабушкин заметил стоявшего в дверях Валицкого и нарочито громко, так, чтобы плачущий понял, что в комнату вошел посторонний, сказал:
- Здравствуйте, Федор Васильевич. Спасибо, что пришли!
Рыдания смолкли. Человек, сидевший у стола, поднял голову. Он был молод, худ, как все ленинградцы, и небрит. Увидев Валицкого, встал и быстро вышел из комнаты.
- Вы написали свое выступление? - смущенно и вместе с тем подчеркнуто деловито, словно ничего не случилось, спросил Бабушкин.
- Да, да, - растерянно ответил Валицкий.
Плачущего навзрыд мужчину он видел впервые. Бабушкин понял его состояние и, не глядя ему в глаза, сказал:
- Это Маграчев. Один из лучших наших репортеров.
- Что у него случилось? Погиб кто-нибудь из близких? - спросил Валицкий.
- Пока еще нет, но, похоже, что дело идет к тому, - грустно ответил Бабушкин и, помолчав, пояснил: - Поехал он по заданию комитета в воинскую часть. На неделю. Сегодня вернулся домой, а мать, отец и все домашние - при смерти. Оказывается, несколько дней назад отец пошел в булочную и... потерял карточки. На всю семью!..
Провожатая Валицкого воскликнула при этом почти с гневом:
- Почему же никто из них не дал знать нам?! Неужто мы не помогли бы?!
Бабушкин молча пожал плечами. Женщина вышла из комнаты...
Валицкий хорошо понимал трагедию Маграчева. Карточки в Ленинграде не восстанавливались ни при каких обстоятельствах. А до конца месяца - Федор Васильевич быстро прикинул это в уме - оставалось еще больше двух недель. Значит, вся семья этого молодого человека медленно будет умирать на его глазах...
- Да, это беда, - тихо сказал Валицкий.
- Блокада, - так же тихо и в то же время со злобой добавил Бабушкин».

После блокады эвакуированные дети начали возвращаться домой.
Вадим Шефнер
«Сестра печали»
Это, пожалуй, одно из самых пронзительных произведений. Повесть во многом автобиографична: Вадим Шефнер рассказывает о своей службе в батальоне аэродромного обслуживания под Ленинградом и о своей невесте, оставшейся в блокадном городе.
«От Лели письма получал я часто и часто писал ей. Она по-прежнему работала на окопах, но теперь уже в другом месте, где-то у Уткиной заводи, совсем близко от города. Приехать ко мне она не могла, ее бы не отпустили, да я особенно и не звал ее к себе, потому что порядки в БАО были строгие, и меня бы, пожалуй, просто не вызвали к ней. Здесь было строже, чем в пехоте, потому что здесь по-настоящему воевали только летчики. В свободное время я перечитывал Лелины письма, они были нежные и немного грустные. О бомбежках и обстрелах Ленинграда она ничего не писала, будто их и не было, - может быть, просто, чтоб не огорчать меня.
Но я-то знал, что город теперь бомбят и обстреливают. Аэродром находится не так уж далеко от Ленинграда, и по вечерам на юге видны были размытые, неясные световые полосы - лучи прожекторов. Видны были вспышки, короткие и беззвучные, похожие на июльские зарницы в ту пору, когда созревает рожь. Иногда горизонт начинал колыхаться, набухать темно-красным цветом: значит, что-то горит».
<***>
«Я начал класть в мешок хлебные огрызки. Их было много. Некоторые были словно в мышиной шкурке, так покрыла их пыль, а те, что лежали пониже, казались совсем чистыми. Кое-где на высохшем мякише виднелись оттиски Володькиных зубов. «А мы-то, охламоны, вечно ругали Володьку за эту привычку забрасывать корки на печку», - размышлял я, сдувая пыль с огрызков и кладя их в мешок.
Когда все было собрано, я, не доверяя глазам, обшарил рукой все неровности, все зазоры между кирпичами. Потом достал из заповедного места бутылку «Ливадии». Туго обтянутая старыми дырявыми носками, она была в полной целости и сохранности.
- Держи крепко! - наказал я Леле, подавая ей бутылку. - Как хорошо, что ты тогда удержалась и не запустила ее в мою голову.
- Нет-нет-нет! - она тихонько рассмеялась. - Это клевета. Насчет бутылки у меня ничего такого и в мыслях не было. Но какая твоя Лелька глупая: швыряться пирожными! Целая коробка...
- А я - дурак, что не подобрал их тогда и не съел, - сказал я, слезая со своей вышки. - Сейчас бы я сожрал их вместе с картонкой. Когда кончится война...»
<***>
«Осторожно постучал в дверь и стал ждать. Но никто не торопился впустить меня в прихожую. Было тихо. Я постучался сильнее и приложился к двери щекой. Сквозь шапку-ушанку ничего не слышно. Развязав тесемки, я приник к двери голым ухом. Дверь очень холодная. В квартире стыла тишина. Я принялся колотить в дверь изо всей силы. Тогда открылась дверь квартиры напротив. Вышла женщина в серой беличьей шубе, в толстом сером платке.
- Вы зря стучите, - сказала она. - Любовь Алексеевна три недели как в стационаре.
- А Леля? - спросил я. - А где Леля?
- Лели нет,- ответила женщина. - Уже дней... - она прищурила глаза, припоминая. - Уже недели две.
- Леля эвакуировалась, да?
- Лели нет, - повторила она. - Леля при обстреле убита.
Женщина притворила за собой дверь и стала говорить мне, что Леля с Риммой из девятнадцатой квартиры пошли в тот день на Неву за водой, и начался обстрел. Их убило первым же снарядом...
- Нет ли у вас хлеба? Я, конечно, вам заплачу.
- Вот, нате, - я вынул из противогазной сумки кусок хлеба и протянул ей.
- Сейчас я вам вынесу... - она открыла дверь.
- Нет, не надо... Вы не знаете, где похоронили?
- Теперь никто не знает, где кого хоронят, - ответила она. Потом повторила: - Теперь никто не знает, никто...»

Дорога жизни была тонкой нитью, связывающей Ленинград с Большой землей.
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
Иосиф Эттингер
«Город не горит...»
Вообще-то это не книга, а статья, вышедшая в 1984 году в научно-популярном журнале «Химия и жизнь». Сотрудник легендарного Государственного института прикладной химии раскрыл секрет, почему, когда немцы ежедневно бомбили Ленинград, сбрасывали на него миллионы зажигательных бомб, массовых пожаров в городе не было. Оказывается, еще в самом начале блокады перед химиками поставили задачу: придумать, из чего можно готовить антипирены - вещества, препятствующие горению. Причем найти нужно было из того, что имелось в Ленинграде. И на одной из баз ученые отыскали предвоенный запас суперфосфата - удобрений, которые использовались на полях. Разработали технологию производства противопожарной обмазки, научили ленинградцев ею пользоваться. И все это - за считанные недели.
<***>
«Обмазка была густой, тяжелой. Пытались сделать какие-нибудь механические приспособления, машины, чтобы ее наносить, но успеха не добились. Главным орудием огнезащиты города стала обыкновенная маховая кисть.
Суперфосфат с барж перегружали на грузовые трамваи и машины, потом на тележки, носилки, в ведра... Кистями вооружились рабочие и академики, школьники и пенсио-
неры, бойцы МПВО и домохозяйки, врачи, искусствоведы, библиотекари... Кажется, нет особого героизма в том, чтобы наносить пасту на дерево чердаков, которые к тому времени уже были освобождены от всевозможного хлама и мусора. Но если оценить масштаб того, что происходило на городских чердаках, нельзя не подивиться высочайшей организованности и самоотверженности ленинградцев. За месяц огнезащитным составом было покрыто девяносто процентов чердачных перекрытий и деревянных строений, девятнадцать миллионов квадратных метров! На каждого жителя огромного города, включая глубоких стариков и грудных младенцев, почти по десятку квадратных метров дерева, защищенного от огня.
Все это было сделано еще до того, как упала первая вражеская бомба. Бадаевские склады и портовые сооружения, к несчастью, обработать не успели.
Кроме жилых и промышленных зданий, особой заботой были окружены исторические памятники и культурные сокровища. В одну из летних ночей несколько трамвайных составов, груженых суперфосфатом и песком, остановились около Публичной библиотеки. Команда МПВО, десятки сотрудников нашей Публички выстроились цепью от трамвайных платформ до ее чердаков. По цепи плыли ведра. Потом, когда начались бомбежки, фашисты не раз метили в это знаменитое здание. Напротив библиотеки, возле памятника Екатерине II, на Невском проспекте не раз взрывались фугаски и зажигалки. Из бывшего Елисеевского магазина вылетели знаменитые цветные витражи. Но Публичка уцелела.
С той же тщательностью были обработаны чердаки и перекрытия Эрмитажа, Русского музея, Пушкинского дома...
<…> В первые послевоенные годы жильцы верхних этажей ленинградских домов часто жаловались на протекающие крыши: суперфосфат вызывал усиленную коррозию кровельного железа, оно проедалось ржавчиной с невиданной быстротой. Кровельщики, не понимая, в чем дело, терпеливо меняли лист за листом. Те же, кто был в курсе дела, об этих расходах не жалели...»
Читайте также:

http://kp.ru/f/12/image/00/35/4783500.jpg?0.382177608538754